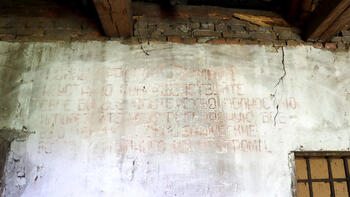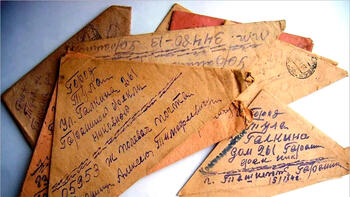Речичане Владимир и Ирина Жураковские рассказывают о своих отцах – героях войны
Источник: Dneprovec.by Фото: из архива семьи Жураковских
Великая Отечественная война оставила свой горький след в каждой семье. Поражают и восхищают судьбы людские тех, кто жил в то тяжелейшее героическое время. А ещё это было время самоотверженности и беспримерного подвига.
Сегодня мы публикуем рассказ наших земляков Владимира Васильевича и Ирины Петровны Жураковских об их отцах, воевавших на фронтах Второй мировой войны.
Из биографии
Жураковский Василий Трофимович родился в 1921 году. В армию был призван осенью 1939-го.

В феврале 1940 года в составе действующей армии участвовал в войне с Финляндией, в боях на линии Маннергейма. После разгрома финнов и подписания мирного договора прошел морскую подготовку и продолжил службу на эскадренном миноносце в акватории Балтийского моря.
В сентябре 1941 года его корабль был торпедирован немецкой подводной лодкой и затонул в Финфском заливе. Чудом остался жив, был подобран в море кораблями береговой охраны. В связи с гибелью большей части экипажа корабля решением командования определен на дальнейшую службу в морскую пехоту в качестве пулеметчика в крепость Кронштадт.
Защищал подступы к Ленинграду все страшных 870 дней блокады. После прорыва блокады в составе действующей армии наступал на Кёнигсберг, участвовал в его штурме. Войну закончил в городе Балтийске Калининградской области.
За мужество и героизм был награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кёнигсберга».
Ушёл из жизни в 1980 году в возрасте 59 лет.
Владимир Жураковский. Из воспоминаний об отце
Прежде всего необходимо заметить, что очень многие фронтовики, сражавшиеся
и убивавшие врага, неохотно делились воспоминаниями о тех днях, для них это было очень тяжело. Таким был и мой отец, Василий Трофимович Жураковский. Он как-то сказал: «Мы это пережили и не хотим, чтобы это пережили и вы». Из редких коротких его рассказов мы с братьями узнавали немногое.
Так, он вспоминал, что война с Финляндией была очень тяжелой, Советская армия не была так же подготовлена, как финны. Не хватало теплой одежды, большие потери были не только от снарядов и пуль врага, но и от переохлаждений и отморожений, особенно ног. Как спасались? Снимали одежду с убитых, рвали ее на ленты, делали обмотки. Так и воевали, чтобы не обморозиться…
Отец остался жив, получил большой солдатский боевой опыт. Для дальнейшего несения службы после недолгой подготовки он попал на корабль стрелком-радистом.
В сентябре 1941 года при переходе из Таллина корабль, на котором служил мой отец, был торпедирован немецкой подводной лодкой и стал тонуть. Отец спасся, потому что находился на верхней палубе и отплыл от тонущего судна в сторону. Его подобрал другой корабль, который через некоторое время тоже был торпедирован и затонул. Отец снова прыгал в воду, ему удалось найти обломок доски, на котором провел в воде около двух часов, пока не был подобран кораблем береговой охраны. Отца доставили в Кронштадт, где впоследствии определили в роту пулеметчиков.
У нас в семье отец единственный не любил жареную морскую рыбу, иногда даже доходило до ссор с матерью, свидетелями которых мы были. И однажды, не выдержав, он рассказал.
Рядом с Кронштадтом у пирса Ораниенбаума (ныне город Ломоносов) стоял крейсер «Аврора», символ революции 1917 года. О том, что это был тот самый знаменитый крейсер «Аврора», мы позднее узнали от матери, а вначале отец просто говорил о корабле, который нужно было защищать. Немцы с остервенением стреляли по нему, стремясь потопить. Торпедировать его было сложно, но можно было расстрелять из пушек либо подплыть на лодке и взорвать.
Чтобы минимизировать разрушения символа революции, командованию пришлось принять решение притопить его на 2/3. В основном из воды выступала носовая часть, которую немного прикрыли дополнительными листами железа и оборудовали там огневые пулеметные точки. Ведя огонь из пулеметов, не давали возможности немцам с лодок взорвать крейсер.
Суточные вахты пулеметных расчетов выполняли моряки-краснофлотцы из Кронштадта. Зимой, когда Нева замерзала, передвигались и сменяли друг друга по льду, но с весны по осень это приходилось делать по ночам на лодке под немецким огнем. Иногда смены не доходили, и приходилось оставаться на другие сутки и даже третьи с минимальным запасом воды и продуктов. И вот после одной из таких вахт голодных отца с товарищем накормили недожаренной морской рыбой. Кстати, рыбы было много, её ловили в Неве сами моряки. Товарища потом тошнило, а у отца открылась рвота, и он на всю жизнь зарекся есть морскую рыбу. Вот так мы и узнали, что наш отец защищал от немцев крейсер «Аврора».
Очень тяжелыми воспоминаниями он поделился с моим старшим братом Юрием – о поиске для захоронения умерших блокадников. Их, моряков Кронштадта, уже знавших, что такое смерть, после прорыва блокады доставили в освобожденный город Ленинград. Из подвалов, квартир, разрушенных домов приходилось доставать тела умерших детей, женщин, стариков, иногда целыми семьями. Их выносили, грузили на машины и увозили к братским могилам. Документы были не у всех, но попадались и записки на клочках бумаги. Некоторые бойцы не выдерживали и теряли сознание от увиденного.
Потом отца снова направили на фронт брать Кёнигсберг. Однажды ночью они ремонтировали прожектор, которым подсвечивали немецкие самолеты, и тот внезапно включился. Отец на время потерял зрение, ему даже пришлось лежать в госпитале. Зрение частично восстановилось, но его комиссовали, и войну пришлось закончить. Потом отец всю жизнь носил очки.
После госпиталя его поставили руководить швейными мастерскими в городе Балтийске (немецкое название – Пеллау), где работали пленные немцы – шили форму нашим солдатам.
Я сожалею, что так мало знаю об отце, о том периоде его жизни. Горжусь им и стараюсь донести героическую память о нём его потомкам.
Из биографии
Пышин Пётр Иванович родился в 1925 году. В ряды Советской армии был призван 23 марта 1943 года Балтайским военкоматом Саратовской области.

С августа 1943 года, по окончании военно-пехотного училища, участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками, будучи автоматчиком 184-го Гвардейского стрелкового полка 2-го Украинского фронта. При форсировании Днепра был ранен.
После выздоровления направлен в Харьковское бронетанковое училище, по окончании которого, с марта 1945 года, в должности командира танка 2-го танкового батальона 210-й отдельной танковой бригады был направлен на Дальний восток, на войну с Японией. В составе этой бригады 1-го Дальневосточного фронта участвовал в боях с японскими войсками. Проявил себя смелым и волевым командиром танка, за что был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. Войну закончил на Квантунском полуострове в составе 39-й армии в 1946 году.
Имеет награды – медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Японией».
После войны окончил высшую бронетанковую академию им. И. В. Сталина. Служил в Вооруженных силах Советского Союза. В звании полковника вышел на заслуженную пенсию.
Ушёл из жизни в 2015 году.
Ирина Жураковская (Пышина). Из редких коротких рассказов отца
Воспоминания фронтовиков, тех, кто действительно воевал, участвовал в боях, не всегда укладываются в наше привычное представление о войне. Есть война, описанная в книгах и показанная в фильмах, но была и суровая правда. Они не любили об этом говорить.
Мой отец Пётр Иванович Пышин ушел на фронт в семнадцать с половиной лет из поволжской деревни, перенесшей голод 1936–1937 годов, когда ели корешки травы, чтобы выжить.
После короткой трехмесячной подготовки он был доставлен на передовую действующей армии. Там – короткий инструктаж, выдача оружия, причём такого, какое было: кому автомат, кому карабин. Отцу выдали снайперскую винтовку, которую пришлось осваивать уже перед боем, ведь его учили стрелять из автомата.
Немцы отходили, наши бойцы двигались за ними следом, подошли к Днепру и без всякой артподготовки начали форсировать реку – таков был приказ. Перебирались, как могли: кто вплавь, кто на доске. Отцу повезло, попалась маленькая лодка, и он на ней с двумя товарищами переправился на другой берег. Немцы отстреливались. Очень много наших бойцов погибло от пуль, разрывов снарядов и мин, просто утонуло вместе с оружием, ведь Днепр в том месте был достаточно широким.
Фашисты явно не ожидали скорого наступления, думали, что вначале будет артиллерийская подготовка. То, что захватчики были не готовы к такому напору, было легко заметно. Так, вбежав в немецкий блиндаж, солдаты увидели там большой котелок с только что сваренной горячей кашей, заправленной мясом.
Позже, во время наступления, отец попал под обстрел и был ранен в бедро. Кое-как его перевязал санинструктор и велел возвращаться. Опираясь на винтовку, как на костыль, с полным сапогом крови отец добрался до медсанбата. В бедре сидел осколок, его надо было доставать. В качестве обезболивания бойцу налили 100 граммов спирта, немного развели водой и заставили выпить. А потом санитарка и медсестра навалились на отца и держали, пока хирург доставал осколок.
Около трех месяцев провел отец в госпитале, а потом попал в резервный полк, где старшиной был Юрий Никулин, будущий артист и великий клоун. Никулин и рекомендовал его с еще одним сослуживцем в танковое училище, о чём отец узнал позднее. А тогда ночью Никулин разбудил их двоих и сказал собираться. Куда и зачем, непонятно. Думали с товарищем всякое, в том числе и самое страшное. Всё прояснилось только в Харькове.
По окончании танкового училища отец эшелоном прибыл на Дальний Восток. После разгрузки танковым маршем вступили на территорию Китая и начали боевые действия с японской армией. Японцы сопротивлялись ожесточенно. Когда заканчивались патроны и японские солдаты больше ничего не могли сделать, то в плен они не сдавались – бросались под гусеницы танков.
Уже в преклонном возрасте отец очень хорошо помнил такой эпизод. Выполняя боевую задачу, нужно было форсировать речку Муданьцзян. Небольшую, но полноводную, с бурным горным потоком. Он как командир танкового взвода шел первым. Впереди был слабенький, ненадёжный мост, явно для гужевых повозок. Доложил по рации командиру, тот дал приказ продолжать движение, что было выполнено. Перед самым мостом остановились, примеряясь. Видно было, что мост танк не выдержит, он рухнет в воду, и все утонут. К счастью, в танке вместе с экипажем находился заместитель начальника политотдела дивизии. Осмотрев мост, он остановил движение, связался по рации с командиром дивизии и всё объяснил. Переправу нашли чуть ниже по течению, переправились, заняли с боем позиции и выполнили все поставленные задачи. Впоследствии за успешное выполнение боевых задач, за решимость выполнять приказ, несмотря на верную гибель, отец был награжден орденом Красной Звезды.
Отец впервые рассказал об этом за год до своей смерти. Когда я в детстве спрашивала, за что у него орден и медали, он отвечал: «За то, что воевал». И всё.
Уверена, было много и других героических эпизодов войны. Но те, кто воевал, не хотели об этом говорить. Видимо, жалели нас.